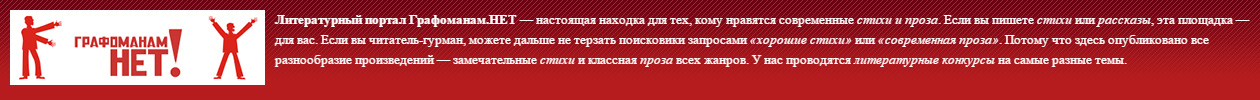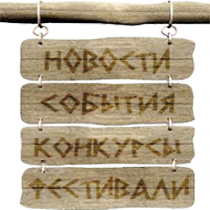Ян Бруштейн - один из немногих поэтов, за знакомство с которым я от души благодарна самиздату. Ян у меня в избранном; каждое его новое стихотворение я непременно читаю по нескольку раз, чтоб через месяц-другой встретиться с ним же в тех небольших, но чрезвычайно значимых для меня подборках-блоках, которые сам автор компонует для читателя из своего избранного. Эти циклы собраны так удачно, что каждое отдельное стихотворение выглядит неотъемлемой частью единого целого, объдиненного общей идеей и настроением; впечатление от каждого произведения лишь усиливается соседством с предыдущим и последующим благодаря своеобразному тематическому резонансу, и вся подборка выглядит небольшой поэмой, написанной на одном дыхании, из которой, как говориться, слова не выкинешь, а тем паче - стиха. Поэтому предложение редактора составить небольшую подборку из пяти самых моих любимых стихотворений, сопроводив их небольшим на 10 строк вступлением, сперва меня очень обрадовали, но потом показалoсь невыполнимым: самых-самых куда больше пяти; тематически и стилистически они неоднородны и мои безуспешные попытки их объединить напоминают попытку старых испанских зодчих построить христианскую церковь из несостыкующихся между собой блоков языческих храмов, мечетей и синагог, когда-либо стоявших в той местности. Да и что, кроме общих и красивых слов скажешь в 10 строчках репрезентативного текста?
Намучившись, я решила все мое "самое-самое" из Яна Бруштейна разбросать по 5 условным тематическим полочкам с этикетками "Севера", "Семейное", "Географическая россыпь", "Символическое" и "Место речи"; стихи для подборки отбирать, опираясь скорее на их различие между собой и характерность для автора, а не степень моей к этим стихам любви, а о "самых самых" и о содержании полок в целом писать, не оглядываясь на пределы разрешенного объема.
Итак, "Севера" , Первой эта полка была бы хотя бы потому, что знакомство мое с творчеством Яна начиналось с "Планеты Сибирь", поданной им на конкурс "Точка разлома",где мне довелось "жюрить". На траурно-черном фоне любовных трагедий и надуманных армагедонов строки, "Где вспахивает белое пространство Над каждой переписанной строкой Упряжка золотых моих собак", "И рыба Бийск с раскосыми глазами, Шаманы с расписными голосами И бубнами из шкур нетопырей Уходят в подпространство, как в запой" полыхали экзотичной яркой радугой, а интонация описания смертельной опасности выделялась сдержанностью и даже некоторой отстраненностью. И при этом чувствовалось: все коллизии стихотворения пережиты автором лично; метафоры, какими бы романтичными или неожиданными они ни казались, тщательно обдуманны и скорее всего соответствуют собственным впечатлениям. В этом весь Ян: полное отсутствие умышленной аффектации и почти непременное личное участие в описываемом. Даже самые остро-социальные стихотворения Яна Бруштейна автобиографичны; простая, негромкая подача трагедии и собственная реакция на нее; при этом ни призывов к отмщению, ни обобщений.
“Их в тридцать восьмом уравнял трибунал, побратал расстрел -
Пятьсот мужиков, троцкистов, затоптанных в землю тел.
Не выдалось сгинуть моей родне на большой войне,
Потом за всех мой отец отвоевал вдвойне.”
(” Севера. Кирпичный завод")
Но именно от этой безыскусной простоты и сдержанности интонации - мороз по коже; им веришь больше, чем горестному воплю.
И в том сличае, когда речь идет о портрете случайно встреченного незнакомца, автор непременно присутствует, как участник разыгрываемой сценки. При этом подробности и детали подобраны и описаны так мастерски, а характеры, даже второстепенные, настолько психологически верны, что трудно усомниться в реалистичности картинки; все видишь, как воочию. И всегда остается ощущение, что за незатейливой зарисовкой стоит нечто большее, неназванное, о чем можно говорить долго и горячо. Взять хотя бы маленький, на мой взгляд, шедевр "Плацкартное" .
Истеричная исповедь бывшего каторжанина перед случайными попутчиками; неприкрытый страх "злой тетки" перед цыкающим сквозь зубы "душегубом"; облегченное оживление пассажиров, когда обозленный на жизнь разбойник убрался наконец-то из поезда на очередной остановке; мама пацана, пожалевшая, как водится на Руси "несчастненького", пусть и приблатненного, пусть даже сына полицая. Все достоверно до мелочей, до сушенной тарани, которой приходится стучать о грязный стол вагона; в обычной жизни впечатления о подобных встречах обычно выветриваются из памяти сразу по их окончании. А чувство - как после прочтения серьезного романа о человеческой судьбе несправедливо изломанной историей, о неоднозначности человеческих взаимоотношений, о невозможности судить кого-то по впечатлению...
Вторая полка воображаемого избранного, досталась бы скорее всего стихотворениям на семейную и еврейскую тему. Для того, чтоб писать о своей семье так, как пишет Ян Бруштейн, нужен не только огромный талант, но и определенное мужествo: мама, папа, бабушка, дедушка - это то, что свято. О них и в своем узком кругу говоришь, старательно выбирая слова, особенно, когда речь о мелких обидах или недостатках. А уж если говорить при посторонних, причем необязательно еврейской национальности. С неевреями как-то предпочтительнее говорить об Осипе Мандельштаме, о Борисе Пастернаке, об Иосифе Бродском; о Льве Ландау, о Карле Марксе, об Иисусе Христе, на худой конец. Одним словом о тех, кого их гениальность хоть как-то оборонит от скарбезной ухмылки, напоминающей о бесконечной череде "абгамов" из еврейских анекдотов. К ним не прилипнет презрительно-шипящее словечко "Жид", рядом с ними и себя чувствуешь несколько уверенней. Бруштейновский "Маленький сапожник дедушка Абрам" очень далек от этой славной блистательной когорты выдающихся линостей. Он, прошедший две серьезные войны, так и не стал мифическим героем без страха и упрека: он панически боится фининспектора, он нервно вздрагивает по ночам, да и ростом не удался, доставая разве что до плеча собственной жене. Да и борется он не за абстрактные прекрасные идеалы, а за выживание своего маленького внука Янички. Этот запуганный маленький человечек - беззащитен и пронзительно трогателен; его и жалеешь и любишь. Любишь искренне и непосредственно, потому хотя бы, что благодаря точным деталькам и штришкам, на тебя нахлынули воспоминания о собственных добрых бабушках и дедушках с их бесконечной воркотней-скороговоркой о курочках, бульончиках и прочей вкуснятиной, от которой в детстве было не отбиться, с их вечной занятостью хозяйством и посиделками рядом со швейной машинкой, на которой вечно что-то строчилось и перешивалось; чаще всего одежда твоих старших сестер и братишек для тебя же. Атмосфера старой еврейской семьи передана безукоризненно; детская лексика прекрасно отражает восприятие ребенка, для которого непонятный фининспектор - сродни серому волку из сказки; но взрослый читатель, рассматривающий эту живую поэтическую фотографию, хорошо понимает обоснованность страхов маленького сапожника и от души сочувствует ему. Опираясь на автобиографические стихотворения Яна можно, по сути, читать лекции под названием: "От Котовского до этой". Чуть ли не все основные вехи истории страны прошлись кровавым гребнем по его семейству. Тут и Колыма, и блокада Ленинграда, и отец случайно выживший в годы войны, и даже внезапное пост-перестроечное движение евреев к своим
полузабытым иудейским корням.
Интонация стихотворения о брате - совсем иная, хоть и речь идет о той же искренней любви к до боли близкому человеку: и по крови, и по пережитому в юности. И от того, что в какой-то момент дороги братьев разошлись очень резко эта любовь нисколько не уменьшилась; в каждой строчке чувствуется и восхищение мужеством человека, обитающего там, где ракеты ежедневно летят во дворы мирных жителей, и готовность мирно осмыслить, понять и принять во многом непривычные, чуждые, казалось бы обычаи и желание в негативе увидеть то высокое, что
за этим негативом стоит:
Он беден, и ноша его велика:
Всевышний да дети
В его бороде утонули века,
В глазах его ветер.
Он там, где ракеты летят во дворы,
Он вместе со всеми.
Лежат между нами века и миры,
Пространство и время.
Эти строки романтичны, но патетика их изрядно "заземлена" легкой иронией автора; очень серьезное сказано как бы не всерьез; читая стихотворение все время хочется улыбнуться. Ирония, юмор в поэзии Бруштейна встречаются не часто, но шутка каждая бьет редко но метко. Так, к примеру, неожиданная забавная реминисценция на блоковскую "незнакомку" мгновенно превратила более чем популярный нынче образ женщины-ведьмы в реальную живую женщину, а само стихотворение “женщина, похожая на дым” (для меня лично) сразу вырвалось из бесконечного перепева булгаковских маргарит как нечто личностное и запоминающееся.
.
На условной третьей полке у меня "географическая россыпь". Географические названия в стихах Яна встречаются на каждом шагу: тут и Петербуг, и Пятигорск, и Херсон, и даже Флоренция. Причем в каждом стихотворении автору удается схватить и передать своеобразную ауру мест, о которых пишет. Более всего меня потрясло это именно в стихотворении о Флоренции. Мне очень близка та острая тоска по незнакомым мне пространствам, но откуда у автора. никогда по его же словам не бывшего в этом прекрасном городе то праздничное ощущение необычной легкости и светлой радости, не покидавшей меня до самого вечера того потрясающего зимнего дня, когда я ходила по мостовым этого сказочного итальянского города? Откуда это прозрение?
Для Яна Бруштейна Флоренция - символ, а умение создавать образы, обобщающие его этические или политические представления и понятия - еще одна грань его поэтического таланта. Его авторскую манеру довольно трудно загнать в какую-то одну жанровую клетку; Ян Бруштей при некотором своем желании, превосходно плавает в любом литературном течении, будь то реализм, символизм или даже сюрреализм. Любителя двух последних литературных направлений ждет немало находок: от мерцающего различными подтекстами и скрытыми за метафорами, смыслами «ныряющего с моста» до яркого, предельно ясного «Зубы войны» .
И, на закуску, несколько слов о «Месте речи». Этой сугубо литературной теме у Яна посвящены не так уж много стихотворений; но вскользь мысли о неразрывной цепочке «я и поэзия» всречаются повсеместно, и по серьезности интонации этих замечаний, «место речи» в его собственной жизни довольно велико и значительно. «Самый близкий во языцех» " неразрывно связывает его с той землей, на которой Ян родился; привычка «лелеять» рифмы сопровождают поэта от его «лохматого тринадцатилетия» до сегодняшнего дня. И мне не верится ни горькому образу крысолова, ни трагическому утверждению из того же стихотворения «эхо», о том, что
«И в этом цифровом болоте
Вы никогда нас не найдёте,
По следу или без следа,
И только знаков череда,
И только эхо на излёте,
И только мёртвая вода.»
Я по своему опыту знаю, что раз выйдя на страничку Яна Бруштейна, к ней неизменно возвращаешься, хотя бы потому, что «вода» поэзии в ней не мертвая, а живая.
Мóлохта
Молохта моя - длинная, как день с утра,
Быстрая, как дыхание на бегу,
Холодная, как последняя из утрат,
Что ещё вспомнить могу?
В твоих бочагах вздыхают сомы,
Твои кувшинки - следы от солнечных лап.
Не от сумы спасаюсь, не от тюрьмы, -
От поздней печали, в которой я тих и слаб.
По этому берегу бегал мой огненный пёс,
И я (нынче странно это) за ним поспевал,
Всплески и блики ловил он, цветы и стрекоз.
Вспомню - и наповал!
Облака над рекой, неспешные овны,
И солнце за ними - мой рыжий, мой золотой...
А сердце стучит так же неровно,
Как эти стихи - задыхающейся строкой.
Маленький сапожник, мой дедушка Абрам
Маленький сапожник, мой дедушка Абрам,
Как твой старый «Зингер» тихонечко стучит!
Страшный фининспектор проходит по дворам,
Дедушка седеет, но трудится в ночи.
Бабушка – большая и полная любви,
Дедушку ругает и гонит спать к семи…
Денюжки заплатит подпольный цеховик,
Маленькие деньги, но для большой семьи.
Бабушка наварит из курочки бульон,
Манделех нажарит, и шейка тоже тут.
Будут чуять запах наш дом и весь район,
Дедушка покушает, и Яничке дадут…
Дедушку усталость сразила наповал,
Перед тем, как спрятать всего себя в кровать,
Тихо мне расскажет, как долго воевал:
В давней – у Котовского, а в этой … будем спать…
Маленький сапожник, бабуле по плечо,
Он во сне боится, и плачет в спину мне,
И шаги все слышит, и дышит горячо,
И вздыхает «Зингер» в тревожной тишине.
женщина, похожая на дым
«Дыша духами и туманами»
А.Блок
женщина, похожая на дым,
заходила в мой кошачий дом,
рыжая, смеялась над седым,
словом била, как слепым кнутом.
поджигала сердце и постель,
выпивала водку и «Мартель»,
но сквозняк подхватывал, и вот
улетала в черный дымоход.
словно и не шла путями странными,
будто бы и в памяти – не та...
но несло духами и туманами
от загривка моего кота.
Зубы войны
Мир не спит ночами,
Ему больно,
У него режутся зубы войны,
А зубы мудрости
Догорают тщедушными угольками,
Обжигая язык и дёсны.
Это обстоятельство тоже не добавляет
Добродушия и спокойствия.
Мир состарился и разжирел
За долгие десятилетия без Большой Войны.
Ну да, всё время что-то где-то погромыхивало:
То там кольнёт, то здесь заноет,
То уши заложит, то хвост отвалится...
Но он притерпелся -
И без хвоста можно жить!
Но Большая Война...
Это что же - вставай с дивана,
Срочно доедай всё, чем набит холодильник,
Бери шинель (с)
И уходи в эту кровавую кашу,
Которую сам же и заварил?
И никогда уже не возвращайся?..
Воробьиное слово
Скажу воробьиное слово
И выйду в пространство окна,
Туда, где ни чести, ни славы,
А только свобода одна,
Туда, где вранья ни на йоту,
Где можно забыть о былом,
Где главная в жизни забота -
Размахивать слабым крылом!
Мечта о Флоренции
Мечта о Флоренции вроде вериг:
Болит – не болит, а тихонечко ноет,
И длится моё проживанье земное,
Двенадцать шагов от окна до двери.
Мечта о Тоскане похожа на дым –
От этих лесов, безнадежно горящих.
Давно бы сыграл я в отъезд или в ящик,
Но разве сбежишь ты от нашей беды?
В моих бесцензурных по-прежнему снах
Я камни топтал и Мадрида, и Ниццы…
Но чаще всего, представляете, снится,
Ночная Флоренция с криками птах.
Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,
Я вижу, как время свивается в узел,
И как пролетают усталые музы
К последним поэтам, не спящим в ночи.
Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом.
А кто победит… я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру.
Мечта о Тоскане покрепче вина,
Но кто виноват в этой странной невстрече…
И пью за клеймо я, которым отмечен,
И в кованом кубке - ни края, ни дна.
Марина Генчикмахер
Страница Яна Бруштейна