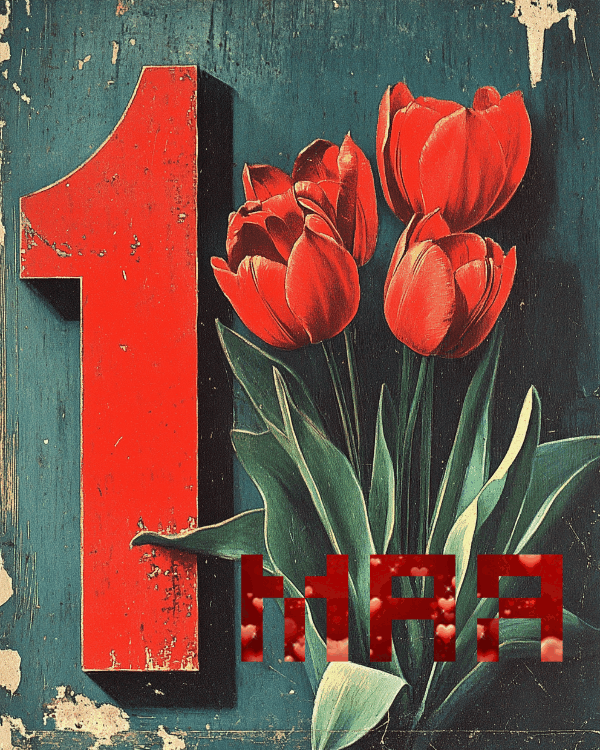Совпадения – невероятны…
Пролог
(«Я верю в любовь!»)
Сергей смотрел на навсегда умерший телефон и решился. Он щелкнул не гнувшимся пальцем по мышке и рядом со своей единственной оставшейся, но неудачной фотографией в разделе «Сведения о себе» напечатал: «Я был женат дважды – 13 лет и 18 лет. Оба раза удачно. В людях ценю честность, порядочность и надежность. И я верю в любовь».
И не знал он тогда, что телефон взорвется от звонков ровно через день, и ему предстоит выслушать десятки историй, десятки исповедей, испытать столько же надежд и разочарований и впустую мечтать, чтобы телефон опять умолк.
И только через четыре месяца, высохши от отчаянья, он заставит себя снять трубку и услышит: «Это я. Меня зовут Аня. Снимите ваши данные с вебсайта. Я тоже верю в любовь».
А пока что он щелкнул мышкой на «отправить», выключил экран, увидел за окном такое чужое белое солнце (вот странно: солнце - белое, а лучи - желтые, надо запомнить) и подумал, что, а вдруг господь не наказал его, а освободил, вздрогнул от этой мысли, и ему стало жалко себя. Сергей вытер слезы, взял лезвие, отточил карандаш, как делал это тысячи лет назад, ткнул грифель в бумагу и дрожащей рукой своим мелким и трудно читаемым почерком быстро написал:
Господь наказал нас за слабость забыть,
Как можно страдать и как нужно любить.
И это были первые написанные им строки после восемнадцатилетнего перерыва.
Включил вертушку. Популярная певица пела:
А что мне надо? Да очень мало.
Был бы мой парень, песни с гитарой,
Праздник с друзьями, два слова маме,
Модная майка, с блеском помада,-
Это все, что мне надо. Все, что мне надо.*
Он встал, плеснул в рюмку коньяк. Медленно выжал туда лимон и громко сказал:
«С днем рождения тебя, Сергей Александрович! За твои пятьдесят шесть лет».
-------------------
* Из песни «Все, что мне надо» на слова Н. Тимченко.
КНИГА 1.
ЗАБЫТЬ И НЕ ВСПОМИНАТЬ!
Глава 1. Репетиция. Лето 1971-го.
(Забыть и не вспоминать!)
- Забыть и не вспоминать! – сказал себе Сергей.
Он прилетел с Урала пару часов назад, сбросил со сковороды на ломоть хлеба огненную котлету, схватил бурый помидор, буркнул: «Папа, не нуди, я бегу на пляж» и сбежал с обрыва к морю, чуть ни вывихнув отвыкшие от этого ноги.
- Вам снимочек на память или шароскопчик? - спросил фотограф.
- В другой раз, родной. Что, не узнаешь?
- Мама моя, Серега!- завопил фотограф.- Вино с меня. После трех. Вишь – очередь стоит...
Из репродуктора неслась песня:
Колумб Америку открыл,
И захотел открыть другую.
Дурак, чего он не открыл
На нашей улице пивную.
Обожженный ледяной водой, снявшей усталость сессии и долгого перелета, Сергей упал на песок и замер.
- Забыть и не вспоминать. Мне 24 года...
Его вызвали в ректорат накануне, сразу после завершения студенческого театрального фестиваля.
- Ты что думаешь, - сказал ректор, - если Ленинскую получаешь, то на тебя управы нет? Ты что это себе позволяешь? Вот первый отдел настаивает на отчислении...
- Чи-во вдруг?- поперхнулся Сергей.
- Ты двадцать первого, после экзамена анекдот о Брежневе рассказывал?
- ?
- А о польских шахтерах? Рассказывал? Да или нет!
- Так смешной, ведь, Виктор Иванович. И поляки действительно нас недолюбливают... - Он поднял глаза на Ректора. - В чем дело реально?
Ректор закурил и сел на диван.
- Эх, нельзя мне курить... Вот журнал посещаемости. Ты, вообще, на лекциях бываешь? Когда ты учишься? Театр, гастроли, вон - рассказы твои в газете... «В чем дело реально»,- перекривил он Сергея. - Ты три диплома за что получил? За «Сказку о дураке» Маршака. Я на просмотре в зале сидел...
- Видел, но...
- Да помолчи хоть минуту, живчик какой. Знаешь, кем я себя почувствовал, аж пот прошиб? Этим самым дураком. Но беда в том, что не я один...
- Так то – Маршак.
- Нет. Это – ты. Ты поставил, и актеры сыграли, что ты хотел, а не Маршак. Знаешь, от твоих работ со сцены сумасшедшее давление идет, волна прямо. Ладно, черт ты талантливый, последний раз тебя спасаю. А вот если военная кафедра когда встрянет, помочь уже ни чем не смогу. Поберегись... Сиди, я не отпускал. Еще чего хочу сказать... Я – не спец, в общем... Все больше по теоретической механике, да и то – в прошлом все... Короче, прочитал твои рассказы. Знаешь, сынок... Сынок, сынок, хоть ты и после армии, слушай и молчи. Пиши, днем и ночью – пиши. Только не бросай. А теперь – вали в свою Одессу! Свободен.
- А что лучше, - съязвил Сергей, поняв, что опять пронесло,- анекдоты или рассказы?
- Рассказы страшнее. И каким только ветром тебя на Урал занесло?
- Морским,- крикнул Сергей из секретарской.
- Ну, и языкатый ты. Смотри – сгоришь, сказал ректор самому себе.
«Вы горите, молодой человек», - услышал Сергей, просыпаясь. Он поморщился. Правое плечо и лицо явно обгорели.
- А раньше не могли разбудить? - спросил он и подмигнул тетке. - Вон у вас в баночке клубника со сметаной. Дайте сметанки намазаться, а то волдыри будут.
Он окунулся еще раз. Стало легче. « Ладно, - подумал он,- пойду к Рыбченко на репетицию».
- Ба, ба, ба! – заорал пузатый Рыбченко. - Люди, посмотрите, кто к нам пришел. Это тот самый Сергей, о котором я вам не раз гутарил. Где ты рожу спалил, на фронте? Эй, люди, - сказал он, - вперед! И нечего подслушивать. Разминка, упражнения Демидова. А потом этюд работать будем. В зале. Вы думаете, этот гад так просто пришел? Покурить, языком почесать? Он вам в этюде хвост накрутит. Наплачетесь с ним... Вперед! Ну, рассказывай, над чем работаешь.
- Первое действие « Трёхгрошевой», на немецком. Иняз просит. А впереди – «Сказка о любви».
- Ну-ну,- развел руками Рыбченко, - и кто разрешит?
- Ректор у меня – классный мужик. Умный.
- Ты, дефективный! Вон – в русском театре после десятого спектакля... сняли. Сгоришь и ты.
- А мне терять нечего, я и так сгорел сегодня. Вон – волдыри... Я слышал, ты «Рыбку - бананку» поставил? Ну, как?
- На, почитай « Железнодорожник». А я пока с людьми упражнения отработаю. Потом – спускайся в зал.
Выкурив последние две сигареты и накурившись, как следует, по такой знакомой мраморной лестнице Дворца железнодорожников Сергей спустился на первый этаж и вошел в зал. Там на сцене Рыбченко, тряся своим пузом, заканчивал строить что-то из кубов и стульев. Все поднялись на сцену.
- Люди, сказал он. Играем этюд. Конец войны. Это – санитарный вагон, койки, столы... Туалет, если надо. Тамбур... Этот обожженный тип – раненый танкист, главный герой. В паре с ним Валя – медсестра. Где Клавка? Ты – нянечка. Эй, Кузнецов, ты военврач. Вы, четверка, раненые. Все, хватит действующих лиц, а то каша получится. Остальные, - кыш в зал. И что бы тихо мне! Серега, тебе пять минут на подготовку хватит?
- Хватит. А что, разве были такие вагоны?
- Не знаю. Папу спроси. Он у тебя военный... Вперед! Договаривайтесь, что делать будете.
- Валя, Валечка,- сказал Сергей и обнял ее,- Давайте, не будем ничего планировать. Каждый сам для себя решает, кто он и что он. Разве что, вы, Валя – новенькая в этом поезде.- Он прикоснулся к своей горячей правой щеке, - а я – танкист, обгоревший. Забинтован весь. Звать меня... э... Николай Петрович Огарев. Лица моего не видите, оно под бинтами.... Хорошо?
- Да,- просто ответила Валя, и увидев начавшие тускнеть Сережины глаза, добавила, - Можно, я вас в лоб поцелую, Николай Петрович?
А Сергей уже ничего не слышал. У него горело обожженное лицо, болело правое плечо. «Кто я,- подумал он, откуда родом, сколько мне лет, что я знаю о войне? Ведь я – сорок седьмого года. Из Одессы? Нет, не интересно…» Шум из зала мешал сосредоточиться: там дурачились свободные студийцы. «Этот шум должен мне помочь. Это – гул УЛИЦЫ. В Ленинграде». Сергей покачнулся и медленно вышел на сцену. Подошел к своей койке и, морщась от боли, лег на спину. Он ничего уже не видел. Рыбченко захрипел: «Начали!»
Конечно. Я попал на фронт прямо из Ленинградского танкового училища (там, наверное, есть такое). Мне 30 лет. Нет. Минус 4 года войны... Мне 26 лет. Жил на углу Майорова и Плеханова, в маленькой комнате огромной коммуналки, на втором этаже. Окно выходило на Майорова. Напротив – кафе «Мороженое». Там подавали земляничный пломбир и газировку с сиропом «Свежее сено» или «Крюшон». Вкусно.… А подо мной, на первом этаже была «Булочная-кондитерская». И каждое утро я просыпался от поднимающегося вверх сладкого запаха франзолей и кисло-сладких булочек с изюмом. И еще там продавали восточные сладости, и когда курсант Николай выходил из парадной, он видел в витрине коробочки с рахат-лукумом, баклаву с орехами в разрезе и штрудель с затвердевшим медом внутри…Летом на улицу выставляли маленькие столики. За ними почти всегда сидели люди: женщины в таких смешных шляпках, парни в футболках и кепках, старички в парусиновых костюмах. Они улыбались друг другу и Николаю, когда он шел в галифе и гимнастерке к Казанскому собору, где останавливался зеленый носатый военный автобус, однажды увезший его навсегда.… И еще, у него была девушка. Валя. Валечка. «Ах,- говорила ее мама и пожимала плечами, - а если война?». Они бегали в кино на Чарли Чаплина и Китона, смотрели фильмы по несколько раз и, если везло, сидели в последнем ряду и целовались...
Однажды Сергей лежал на широком подоконнике, готовился к экзамену в театральный. Красавец собор не был виден из окна, и он рисовал его по памяти углем на листке бумаги. Внизу человек в штатском поднял мегафон и заорал «Я второй раз повторяю: закрыть окна!». Должен был проехать кто-то, кажется сам Гамаль Абдель. Но это было гораздо позже – в шестьдесят шестом году.
СТОП!
Капитан Николай Петрович Огарев приоткрыл левый глаз, сквозь слипшиеся от крови веки едва разглядел слева вверху красные деревья и красный вонючий дым, валящий из развороченного взрывом танка. Поблизости лежала башня с упершейся в землю бесполезной пушкой. Дико свистело в ушах. Рядом с ним валялась чья-то оторванная рука со скрюченными почерневшими пальцами. «Господи,- подумал он, - господи». Пахло горящим мясом. Николай Петрович сел, заметил слева же лужу, наклонился, чтобы захватить в пригоршню воды и попить. Правая рука не подчинялась. Он уперся левой в дрожащую землю, потянулся к луже, увидел там свое отражение и закричал от ужаса.
- Тихо,- сказала нянечка Клава, - тихо, милок. Щас доктор придет.
Николай Петрович сел. Повязка чуть надвинулась на уцелевший левый глаз. Правая половина лица горела огнем. Зудело под повязкой правое плечо. Бедро болело. «Это же надо, скоро кончится война, а меня так угораздило»...
К нему подошла сестра. Она сделала укол, поправила повязку и пошла к столику положить шприц. Николай Петрович посмотрел на солдат, стучащих костяшками домино, военврача, стоящего у постели майора, у которого вырезали утром аппендицит. Он посмотрел прямо перед собой на новую сестру, повернувшую лицо в его сторону и окаменел.
- Валя,- хрипло выдавил он из себя,- вас зовут Валя
Капитан Огарев завыл и начал медленно левой рукой сдирать с себя опротивевшие и провонявшиеся ихтиолкой бинты.
- А ну, прекратить истерику, капитан! Что за х---ня! Какой пример вы солдатам подаете? Я старше вас по званию, и это – приказ! - Резко сквозь зубы сказал подбежавший военврач.
Николай Петрович нащупал в кармане пачку «Севера» и коробок со спичками.
- И курить в тамбуре, сказал врач, - Валя, глаз с него не спускать. Ишь, какой гусь нашелся. Это ты там капитан, а здесь – больной. И изволь подчиняться приказу. Вон в тамбур!..
Он стоял в тамбуре рядом с ничего не подозревающей Валей. Она прикурила ему папиросу.
« Господи, - думал Сергей,- господи. Мне 24 года. На фиг мне нужна эта сварка в глубоком вакууме, этот расчет установок для пуска ракет, эта теоретическая механика и прочий бред, на который я расходую свой мозг? И на фиг мне все эти девки? Я ведь никого из них не люблю. Рано или поздно я встречу ту единственную, которой надо отдать всю свою жизнь. И будут счастливые дни и мигом пролетающие ночи. И придет любовь».
В тамбуре было очень накурено.
- Слушай, открой дверь...
Валя как-то пристально посмотрела на забинтованного капитана и открыла. Николай Петрович достал из кармана связку ключей, тощую пачечку «Севера». Подержав их на руке и подумав минутку, размахнувшись, выбросил их в сторону мчащегося во встречном направлении поезда.
- Валя,- заорал сидящий в зале и внезапно вспотевший Рыбченко,- Валя, следи за ним в оба!
Но Николай Петрович ничего этого не услышал. Он вошел в вагон, проскользнул в уборную и повернул щеколду.
Капитан Николай Петрович Огарев стоял в грязной уборной санитарного вагона литерного поезда напротив покрытого желтыми пятнами зеркала. Медленно и аккуратно, морщась от боли, смотал с головы бинты, свернул их, положил на мокрый столик, поднял голову и взглянул на себя единственным уцелевшим глазом.
- Она не должна меня такого знать. Ее мама пожмет высохшими от блокадного голода плечами и скажет: «Ах, война...». А я – окурок войны.
Он услышал какой-то необычный шум. Слышался смех, и орали солдаты. Нянечка Клава подходила по очереди к каждому, кланялась и говорила: «Сообщаю, что кончилась война... Сообщаю, что кончилась война... Сообщаю...»
- Вот и война уходит,- сказал Николай вслух. Погоди, не уходи без меня.
Он сел на обоссанный стульчак, твердой рукой вынул из спичечного коробка трофейную чиночку и медленно начал делать свою последнюю в жизни работу.
- Боже мой, - закричал Рыбченко, - да взломайте же дверь в сральню! Он вены себе порезал!
Вот так и умер капитан Николай Петрович Огарев, сидя на грязной досточке воображаемого унитаза в воображаемом туалете никогда не существовавшего литерного поезда, уже не слыша, как белугой воет новая медсестра Валечка, причитает нянечка Клава и кроет их всех матом военврач Первого ранга Кузнецов.
- Стоп! – четко сказал своим студийцам пузатый Рыбченко. – Стоп!
Наступила гробовая тишина. Где-то далеко звонил телефон.
Валя подошла к Виктору, ткнулась ему носом в лицо и заплакала. «Гад такой… Сука! Никогда в жизни с ним в этюдах играть не буду». ( Пять лет спустя, закончив ВГИТИС и получив диплом с отличием, она поступит в труппу театра им. Станиславского.)
- Дай сигарету,- сказал Сергей.
- Папиросы свои кури... И ключи подбери с пола...
- Да нет у меня никаких папирос, ответил Сергей и улыбнулся. Он подошел к Вале и поцеловал ее.
- Умница ты. Хорошая девочка.
Сергей взял со стола Рыбченко лист бумаги и пастовую ручку и своим мелким почерком четко написал:
Ректору Уральского политехнического института
профессору Дедюкину В. И.
Заявление.
Прошу отчислить меня по собственному желанию.
И не знал в ту минуту Сергей, что жизнь наложит свои коррективы. Через неделю Юрик познакомит его с Любой. В январе, во время зимних каникул они распишутся. Он улетит на Урал и будет ставить «Сказку о любви». Следующей осенью родится его первая дочь. Он вылетит домой. А когда вернется, узнает, что отчислен из института «за уклонение от занятий военной кафедры». Профессор Дедюкин будет лежать в те дни в кремлевке с инфарктом.
Сергей вернется в Одессу. Как кормить семью? Его устроят на работу фотографом.
Но это – уже совсем другая история.
И нужно ее забыть и не вспоминать.